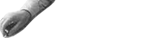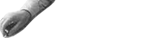В. Набоков
ИЗ СБОРНИКА «POEMS AND PROBLEMS»
[V. Nabokov. Poems and Problems. New York; Toronto: McGraw-Hill, 1970.]
К СВОБОДЕ
Ты медленно бредешь по улицам бессонным;
на горестном челе нет прежнего луча,
зовущего к любви и высям озаренным.
В одной руке дрожит потухшая свеча.
Крыло подбитое по трупам волоча
и заслоняя взор локтем окровавленным,
обманутая вновь, ты вновь уходишь прочь,
а за тобой, увы, стоит все та же ночь!
1917
Крым
НОМЕР В ГОСТИНИЦЕ
Не то кровать, не то скамья.
Угрюмо-желтые обои.
Два стула. Зеркало кривое.
Мы входим - я и тень моя.
Окно со звоном открываем:
спадает отблеск до земли.
Ночь бездыханна. Псы вдали
тишь рассекают пестрым лаем.
Я замираю у окна,
и в черной чаше небосвода,
как золотая капля меда,
сверкает сладостно луна.
8 апреля 1919
Севастополь
ГЕРБ
Лишь отошла земля родная,
в соленой тьме дохнул норд-ост,
как меч алмазный, обнажая
средь облаков стремнину звезд.
Мою тоску, воспоминанья
клянусь я царственно беречь
с тех пор, как принял герб изгнанья:
на черном поле звездный меч.
24 января 1925
Берлин
ВЕРШИНА
Люблю я гору в шубе черной
лесов еловых, потому
что в темноте чужбины горной
я ближе к дому моему.
Как не узнать той хвои плотной
и как с ума мне не сойти
хотя б от ягоды болотной,
заголубевшей на пути.
Чем выше темные, сырые
тропинки вьются, тем ясней
приметы с детства дорогие
равнины северной моей.
Не так ли мы по склонам рая
взбираться будем в смертный час,
все то любимое встречая,
что в жизни возвышало нас?
31 августа 1925
Фельдберг (Шварцвальд)
ЛИЛИТ
Я умер. Яворы и ставни
горячий теребил Эол
вдоль пыльной улицы.
Я шел,
и фавны шли, и в каждом фавне
я мнил, что Пана узнаю:
"Добро, я, кажется, в раю".
От солнца заслонясь, сверкая
подмышкой рыжею, в дверях
вдруг встала девочка нагая
с речною лилией в кудрях,
стройна, как женщина, и нежно
цвели сосцы - и вспомнил я
весну земного бытия,
когда из-за ольхи прибрежной
я близко-близко видеть мог,
как дочка мельника меньшая
шла из воды, вся золотая,
с бородкой мокрой между ног.
И вот теперь, в том самом фраке,
в котором был вчера убит,
с усмешкой хищною гуляки
я подошел к моей Лилит.
Через плечо зеленым глазом
она взглянула - и на мне
одежды вспыхнули и разом
испепелились.
В глубине
был греческий диван мохнатый,
вино на столике, гранаты,
и в вольной росписи стена.
Двумя холодными перстами
по-детски взяв меня за пламя:
"Сюда", - промолвила она.
Без принужденья, без усилья,
лишь с медленностью озорной,
она раздвинула, как крылья,
свои коленки предо мной.
И обольстителен и весел
был запрокинувшийся лик,
и яростным ударом чресел
я в незабытую проник.
Змея в змее, сосуд в сосуде,
к ней пригнанный, я в ней скользил,
уже восторг в растущем зуде
неописуемый сквозил, -
как вдруг она легко рванулась,
отпрянула и, ноги сжав,
вуаль какую-то подняв,
в нее по бедра завернулась,
и, полон сил, на полпути
к блаженству, я ни с чем остался
и ринулся и зашатался
от ветра странного. "Впусти", -
я крикнул, с ужасом заметя,
что вновь на улице стою
и мерзко блеющие дети
глядят на булаву мою.
"Впусти", - и козлоногий, рыжий
народ все множился. "Впусти же,
иначе я с ума сойду!"
Молчала дверь. И перед всеми
мучительно я пролил семя
и понял вдруг, что я в аду.
1928
Берлин
СНЕГ
О, этот звук! По снегу -
скрип, скрип, скрип -
в валенках кто-то идет.
Толстый крученый лед
остриями вниз с крыши повис.
Снег скрипуч и блестящ.
(О, этот звук!)
Салазки сзади не тащатся -
сами бегут, в пятки бьют.
Сяду и съеду
по крутому, по ровному:
валенки врозь,
держусь за веревочку.
Отходя ко сну,
всякий раз думаю:
может быть, удосужится
меня посетить
тепло одетое, неуклюжее
детство мое.
1930
Берлин
ФОРМУЛА
Сутулится на стуле
беспалое пальто.
Потемки обманули,
почудилось не то.
Сквозняк прошел недавно,
и душу унесло
в раскрывшееся плавно
стеклянное число.
Сквозь отсветы пропущен
сосудов цифровых,
раздут или расплющен
в алембиках кривых,
мой дух преображался:
на тысячу колец,
вращаясь, размножался
и замер наконец
в хрустальнейшем застое.
в отличнейшем Ничто,
а в комнате пустое
сутулится пальто.
1931
Берлин
НЕОКОНЧЕННЫЙ ЧЕРНОВИК
Поэт, печалью промышляя,
твердит прекрасному: прости!
Он говорит, что жизнь земная -
слова на поднятой в пути -
откуда вырванной? - странице
(не знаем и швыряем прочь)
или пролет мгновенный птицы
чрез светлый зал из ночи в ночь.
Зоил (пройдоха величавый,
корыстью занятый одной)
и литератор площадной
(тревожный арендатор славы)
меня страшатся потому,
что зол я, холоден и весел,
что не служу я никому,
что жизнь и честь мою я взвесил
на пушкинских весах, и честь
осмеливаюсь предпочесть.
1931
Берлин
БЕЗУМЕЦ
В миру фотограф уличный, теперь же
царь и поэт, парнасский самодержец
(который год сидящий взаперти),
он говорил:
"Ко славе снизойти
я не желал. Она сама примчалась.
Уж я забыл, где муза обучалась,
но путь ее был прям и одинок.
Я не умел друзей готовить впрок,
из лапы льва не извлекал занозы.
Вдруг снег пошел; гляжу, а это розы.
Блаженный жребий. Как мне дорога
унылая улыбочка врага.
Люблю я неудачника тревожить,
сны обо мне мучительные множить
и теневой рассматривать скелет
завистника прозрачного на свет.
Когда луну я балую балладой,
волнуются деревья за оградой,
вне очереди торопясь попасть
в мои стихи. Доверена мне власть
над всей землей, соседу непослушной.
И счастие так ширится воздушно,
так полнится сияньем голова,
такие совершенные слова
встречают мысль и улетают с нею,
что ничего записывать не смею.
Но иногда - другим бы стать, другим!
О, поскорее! Плотником, портным,
а то еще - фотографом бродячим:
как в старой сказке жить, ходить по дачам,
снимать детей пятнистых в гамаке,
собаку их и тени на песке".
Начало 1933
Берлин
ОКО
К одному исполинскому оку
без лица, без чела и без век,
без телесного марева сбоку
наконец-то сведен человек.
И на землю без ужаса глянув
(совершенно несхожую с той,
что, вся пегая от океанов,
улыбалась одною щекой),
он не горы там видит, не волны,
не какой-нибудь яркий залив
и не кинематограф безмолвный
облаков, виноградников, нив;
и, конечно, не угол столовой
и свинцовые лица родных -
ничего он не видит такого
в тишине обращений своих.
Дело в том, что исчезла граница
между вечностью и веществом -
и на что неземная зеница,
если вензеля нет ни на чем?
1939
Париж
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЯМБЫ
В последний раз лиясь листами
между воздушными перстами
и проходя перед грозой
от зелени уже настойчивой
до серебристости простой,
олива бедная, листва
искусства, плещет, и слова
лелеять бы уже не стоило,
если б не зоркие глаза
и одобрение бродяги,
если б не лилия в овраге,
если б не близкая гроза.
1953
Итака
КАКОЕ СДЕЛАЛ Я ДУРНОЕ ДЕЛО
Какое сделал я дурное дело,
и я ли развратитель и злодей.
я, заставляющий мечтать мир целый
о бедной девочке моей.
О, знаю я, меня боятся люди,
и жгут таких, как я, за волшебство,
и, как от яда в полом изумруде,
мрут от искусства моего.
Но как забавно, что в конце абзаца,
корректору и веку вопреки,
тень русской ветки будет колебаться
на мраморе моей руки.
27 декабря 1959
Сан-Ремо
С СЕРОГО СЕВЕРА
С серого севера
вот пришли эти снимки.
Жизнь успела на все
погасить недоимки.
Знакомое дерево
вырастает из дымки.
Вот на Лугу шоссе.
Дом с колоннами. Оредежь.
Отовсюду почти
мне к себе до сих пор еще
удалось бы пройти.
Так, бывало, купальщикам
на приморском песке
приносится мальчиком
кое-что в кулачке.
Все, от камушка этого
с каймой фиолетовой
до стеклышка матово-
зеленоватого,
он приносит торжественно.
Вот это Батово.
Вот это Рожествено.
20 декабря 1967
Монтре
||
|